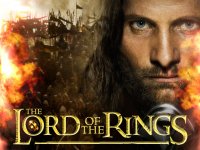 Персонаж: Имрахил
Группа: Майар
Сообщений: 567
Награды: 5
Статус: в Средиземье нету
| Письмо 211 К Роне Бир 14 октября 1958
Вопрос 2. На данный вопрос и на все, что из него следует, ответы содержатся в «Низвержении Нуменора»; этот текст пока еще не опубликован, но здесь я изложить его не могу. Нельзя требовать от Кольца слишком многого, потому что, конечно же, это — элемент мифа, даже если мир преданий мыслится в более-менее исторических терминах. Кольцо Саурона — лишь одна из многообразных мифологических трактовок вкладывания своей жизни или силы в некий внешний объект, который возможно захватить или уничтожить, с губительными последствиями для вложившего. Если бы я стал объяснять «с философской точки зрения» этот миф или, по крайней мере, Сауроново Кольцо, я бы сказал, что это — мифологический способ представить истину о том, что могущество (или, вероятно, скорее потенциальные возможности), если его предстоит использовать и добиться результатов, должно воплотиться во внешнюю форму, и тогда оно в большей или меньшей степени словно бы уходит из-под прямого контроля. Тот, кто желает осуществлять «власть», должен иметь подданных, которые ему не тождественны. Но тогда он от них зависит.
Ар-Фаразон, как рассказывается в «Низвержении» или «Акаллабет», покорил и запугал подданных Саурона, не самого Саурона. Сам Саурон сдался добровольно и из хитрости{282}: и обеспечил себе бесплатный проезд до Нуменора! Разумеется, Единое Кольцо было при нем, так что он очень скоро подчинил себе умы и воли большинства нуменорцев. (Не думаю, что Ар-Фаразон что-либо знал про Единое Кольцо. Эльфы хранили знание о Кольцах в глубокой тайне до тех пор, пока могли. В любом случае Ар-Фаразон с эльфами не общался. В «Повести Лет» III стр. 364 есть намеки на то, что не все ладно: «Тень пала на Нуменор». После Тар-Атанамира (эльфийское имя) следует имя Ар-Адунахор, имя нуменорское. См. стр. 315[347]. Смене имен сопутствовал полный отказ от дружбы с эльфами и от «теологических» наставлений, что нуменорцы от них получили.)
В первый раз Саурон был повержен посредством «чуда»: прямого вмешательства Бога-Творца, изменившего устройство мира, когда к нему воззвал Манвэ: см. III стр. 317. Хотя Саурон и умалился до «духа ненависти, гонимого темным ветром», полагаю, то, что этот дух унес с собою Единое Кольцо, от которого теперь в значительной степени зависела его способность подчинять себе умы, сомнению не подлежит. То, что сам Саурон не был уничтожен гневом Единого, — вина не моя; проблема зла и кажущегося попущения ему неизменно встает перед всеми, кто имеет дело с нашим миром. То, что духи, наделенные свободной волей, неуничтожимы даже силой их Создателя, тоже неизбежная деталь, если верить в их существование или вводить их в художественный вымысел.
В результате катастрофы Саурон, разумеется, «потерпел крах»; он умалился (затратив огромное количество силы на то, чтобы обратить Нуменор ко злу). Ему требовалось время на восстановление собственного тела и на то, чтобы установить контроль над своими бывшими подданными. Гиль-галад и Элендиль атаковали его прежде, чем владычество его утвердилось заново в полной мере.
200 Из письма к майору Р. Боуэну 25 июня 1957
Я обратил внимание на ваши замечания о Сауроне. Он, будучи повержен, неизменно развоплощался. Теория, если возможно использовать термин столь громкий применительно к данной истории, сводится к тому, что он был духом, правда, из меньших, но все же «ангельской» природы. Согласно соответствующим мифологическим представлениям, это означало, что, даже будучи, разумеется, сотворенным, он принадлежал к роду разумных существ, созданных раньше материального мира, которым было дозволено в меру своих сил содействовать в его созидании. Те, что оказались наиболее вовлечены в это произведение Искусства, каковым мир был сперва, настолько им пленились, что, когда Создатель сделал его реальным (то есть наделил его вторичной реальностью, второстепенной по отношению к его собственной, каковую мы называем первичной реальностью, и, следовательно, в данной иерархии на одном уровне с ними), они пожелали вступить в него с самого начала его «осуществления».
Им это было разрешено, и величайшие среди них стали аналогами «богов» традиционных мифологий; но с условием, что они останутся «внутри», пока не завершится Повествование. Таким образом, они пребывали в мире, но не принадлежали к числу тех, чья природная суть — иметь материальное воплощение. При желании они «самовоплощались»; но их воплощенные формы скорее уподоблялись нашим одеждам, нежели нашим телам, разве что больше, нежели одежда, выражали собою их желания, настроения, волю и функции. Знание Повествования на момент его сочинения, еще до осуществления, дало им некоторую меру предвидения; объем его заметно разнился, от почти полного знания помыслов Творца в этом деле, каковым обладал Манвэ, «Старший Король», до знания меньших духов, которые, возможно, интересовались лишь второстепенными явлениями (как, например, деревья или птицы). Некоторые примкнули к таким главным художникам и узнавали о мире главным образом косвенно, через постижение сознания своих владык. Саурон состоял при величайшем из них, Мелькоре, который в конце концов стал неизбежным самовлюбленным Бунтовщиком мифологий, которые начинаются с трансцендентального единого Создателя. Олорин (т. II стр. 279) состоял при Манвэ[328].
Создатель не держался в стороне. Он ввел в первоначальный замысел новые темы, осуществления которых многие духи могли и не предвидеть; случались также и непредвиденные события (происшествия, предсказать которые не помогло бы даже полное знание прошлого).
В первом случае главной стала тема воплощенного разума, эльфов и людей; ни один из Духов о ней не задумывался и участия в ней не принимал. Поэтому их назвали Детьми Господа. Иные, чем Духи, уступающие им «в силе», и все же — существа того же порядка, они вызывали в великих духах любовь и надежду; те знали кое-что об их обличий и природе, а также и приблизительное время их появления в осуществлении. Однако сознавали они и то, что Детей Господа не должно «подчинять», хотя они окажутся к тому особенно восприимчивы.
Именно потому, что Дети Господни настолько их занимали, духи столь часто принимали обличие и подобие Детей, особенно после их прихода. Вот почему Саурон являлся в этом облике. В мифологии подразумевается, что, когда облик «настоящий», то есть физическая реальность в физическом же мире, а не образ, передаваемый от разума к разуму, на создание его требуется некоторое время. И тогда он оказывается подвержен разрушению, как прочие материальные организмы. Но дух, конечно же, при этом не уничтожается — и не покидает мира, с которым связан вплоть до самого конца. После битвы с Гильгаладом{257} и Элендилем Саурону потребовалось немало времени на «воссоздание», дольше, нежели после Низвержения Нуменора (потому, полагаю, что каждое «восстановление» использовало часть внутренней энергии духа, которую можно назвать «волей» или действенным связующим звеном между неуничтожимым разумом и существом и воплощением его представлений). Невозможность «воссоздания» после уничтожения Кольца достаточно очевидна с «мифологической» точки зрения в самой книге.
Извините, если все это кажется занудным и «напыщенным». Но в том беда всех попыток «растолковать» мифологические образы и события. Естественно, истории первичны. Зато, сдается мне, если мифология доступна разумным и рациональным толкованиям, это отчасти доказывает ее последовательность.

★★★†Серый†★★★
Сообщение отредактировал Elvenstar - Четверг, 24.03.2011, 11:46 |








